Коллекционные музыкальные инструменты в миниатюре. Саксофон

Трубка саксофона изогнута в форме чубука, для компактности. Однако высокие разновидности саксофона (сопрано и сопранино) и так небольшой длины, поэтому обычно не изгибаются.


Трубка саксофона изогнута в форме чубука, для компактности. Однако высокие разновидности саксофона (сопрано и сопранино) и так небольшой длины, поэтому обычно не изгибаются.
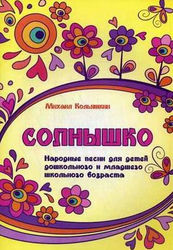
А также народные песни.
В сборник включены разнообразные по тематике, характеру и содержанию народные песни, попевки, прибаутки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они легко и быстро запоминаются детьми, с удовольствием исполняются, прививают интерес к народной музыке, любовь к природе, являются источником познания окружающего мира.
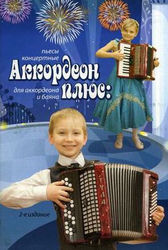
Это одна из первых попыток объединить лучшие сольные произведения для баяна и аккордеона. Каждое произведение сопровождается методическими комментариями-пожеланиями для педагогов.
Очень хорошее издание, рекомендуется всем, кто учится играть на аккордеоне и баяне.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов в мире. Умение играть на гитаре всегда высоко ценилось. Человек с гитарой — это всегда душа любой компании! Он никогда не остается один даже среди незнакомых людей. Как только гитарист начинает искусно перебирать струны, все внимание сразу же приковывается к нему.
Если вы не относитесь к числу таких счастливчиков, но очень хотели бы попасть в их ряды, вам помогут книги-самоучители.
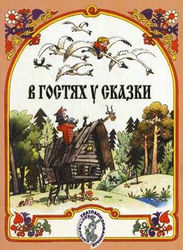
Серия "Театрализованные представления", включающая в себя музыкальные спектакли для детей дошкольного и школьного возраста, ставит своей целью развить творческую фантазию маленьких артистов, ввести их в прекрасный мир музыки и театра.
Производитель:Страна Фантазий, Екатеринбург, Россия.
Дидактический материал включает в себя:
• иллюстрации;
• познавательную информацию;
• конспекты занятий;
• развивающие задания;
• карточную викторину;
• разрезные картинки;
• игру ЛОТО
.

Коллекционные музыкальные инструменты - партворк от издательства Hachette (Ашет).
Первый номер появится в продаже в киосках Роспечати 9 января 2014 года . Часто первые номера выходят на несколько дней раньше, так что первый номер можно смотреть уже сразу после Нового года.
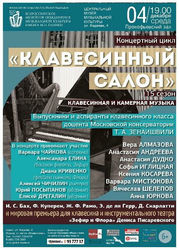
Клавесинный салон
состоит из четырех концертов, которые проводятся непосредственно в экспозиции Центрального музея музыкальной культуры Музыкальные инструменты народов мира
, а также в Прокофьевском зале музея.
В центре внимания программ Клавесинного Салона
, конечно же, клавесин – господин всех
инструментов, как его называли во времена барокко.
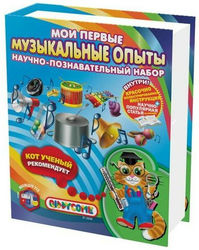
В состав набора входят: основа из картона, прозрачные пластинки и пластиковая трубка, молоточек, пластилин, мерный стаканчик и другие вспомогательные аксессуары.
В комплекте есть подробная красочная инструкция с подробными описаниями проводимых опытов и интересной научно-популярной статьёй.
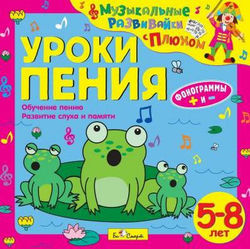
Тексты и мелодии песенок с диска просты для восприятия и запоминания, поэтому подпевать, а потом и петь под этот диск будет под силу каждому малышу. А слова особенно запомнившихся песенок можно выучить и уже тренироваться петь самостоятельно под треки без слов, т.е. под минусовки.
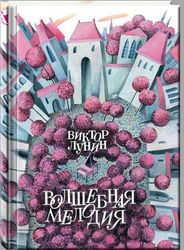

В другой раз нотный городок спрятали в глубокой пещере да и ещё засыпали вход в неё камнями. А как-то про милые добрые нотки вообще забыли, и они томились в рассохшемся шкафу на старом чердаке... Жизнь сестёр-нот оказалась наполненной захватывающими приключениями и всяческими событиями, очень-очень правдивыми, хотя и придуманными.
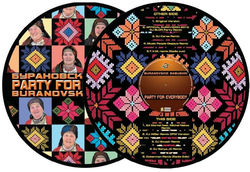
Пластинки, как оказывается, не устарели и до сих пор - они есть в продаже, и устройства-проигрыватели.
Хотя большая часть пользователей приобретают музыку на современных носителях (чьи удобство, мобильность и износостойкость на порядок выше), однако многие меломаны и аудиофилы по-прежнему покупают виниловые пластинки. Всё-таки звук совсем другой!
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас в нашу прекрасную столицу Прагу на два из более признанных и престижных фестивалей хорового пения в сердней Европе:
I.
Международный фестиваль музыки А. Дворжака "Хоровое лето Антонина Дворжака"
состоится в днях 12. - 13. июля. Фестиваль ежегодно объявляет Союз хоров Ческой республики и с агенством Миллениум, под покровительством Мэрии столицы Праги.. Конкурс, фестиваль открыт для любительских хоров без возрастных ограничений.
Фестиваль открыт для хоров женских, мужских и детских в следующих категориях: камерные хоры, хоры однородные или смешанные с больше чем 24 певцами и хоры детские до 16 лет. Все хоры должны подготовить выступление 15 минут -желательно, чтобы программа включала по крайней мере одно произведение Антонина Дворжака , как максимум 5 песен – исполненных a capella или с инстpументальным сопровождением.

Жители Спарты не слишком увлекались искусствами, но песни и танцы любили. Нужно подчеркнуть, что именно отсюда до нас дошли самые ранние тексты хоровой лирики. Это песнопения в честь богов.
Творческая мастерская "Маркиза ангелов" принимает заказы на пошив карнавальных, танцевальных, народных костюмов.
Также в наличии и напрокат готовые костюмы. Дед Мороз и Снегурочка.
Индивидуальный подход к каждому клиенту при приемлемых ценах и отличном качестве.
Калашникова Р.Б. (Петрозаводск)
В 60-е гг. XIX в. «и гримая» заонежская беседа существовала как относительно устойчивая синхронная художественная система, пронизанная обрядовой культурой. Это подтверждается тем, что в январе 1860 г. на святочной беседе в Шуньге П.Н.Рыбников сумел записать вариант древнего хоровода, в котором все присутствующие выбирались «друг по дружке» (цепочкой) под песни в круг [001]. Уникальность записи зимнего хоровода в середине XIX в. подчеркивалась многими исследователями (В.И.Чичеров, Т.А.Бернштам), поскольку в центральной полосе России в это же время зимний хоровод был явлением не характерным и сравнительно давно исчезнувшим. Рыбников объяснял это, в частности, «уважением к обрядности», доведенном в Заонежье до крайней степени вследствие развития старообрядчества и близости Выгорецких общежительств. В третьем томе «Песен, собранных П.Н.Рыбниковым», автор опубликовал 32 бесёдные песни, в том числе 21 из Шуньги (Заонежье). Термин «бесёдные» был к тому времени достаточно распространен в этнографической литературе (применительно к Пудожью -«вечорочные», Кемскому Поморью — «вецериночные», общерусское -«посиделочные» песни). Позже, к 20-м годам XX в., он начал забываться, как забылись и сами беседы, на смену которым пришел клуб [002]. Безусловно, сохранились записи бесёдных песен в публикациях Ф.Студитского (1841), В.Дашкова (1842), Е.Барсова (1868) и др. [003], однако все они разбросаны по ставшим уже библиографической редкостью книжным изданиям, дореволюционной периодике, многие хранятся в архивах неопубликованными. Эти песни, привлекавшие не слишком пристальное внимание исследователей народной культуры XIX в., практически мало изучены и современной фольклористикой, хотя их жанровое своеобразие неоспоримо.
Р.Б.Калашникова (Петрозаводск)
Хоровод в Заонежье существовал до начала ХХ века. Назывался он «кругом (зимний хоровод бесёда). «Круг» явление многосложное. Это не просто хождение молодёжи кругом по движению солнца. «Круг» огораживал внутренне конечное сакральное пространство, на котором создавалась «иная действительность». В олонецких заговорах, гаданиях, старинной свадьбе XVIII в. круг, очерчиваемый железным предметом вокруг жениха и невесты или гадающих, служил охранной чертой от нечистой силы001. В молодёжных увеселениях круг отделял собой пространство игры. В замкнутом, очерченном магическим кругом пространстве возникал единый художественный текст, который переживался эстетически как нечто целое, неделимое, «читаемое» без купюр.
Р.Б.Калашникова (Петрозаводск)
Данная статья имеет своей целью охарактеризовать старинные плясовые песни и их мотивы как определенный элемент фольклорной традиции. Нами просмотрены тексты более 30 плясовых песен Пудожского уезда, записанных во второй половине ХIХ века и до сих пор нигде не опубликованных. Самые ранние из них датируются 1856 годом, они присланы в архив Русского географического общества священником города Пудожа о. Иваном Георгиевским. Часть песен собрана учителями и молодыми священниками Олонецкой губернии в 1870-е годы и также хранится в РГО. Некоторое количество плясовых песен найдено автором в олонецкой дореволюционной печати. Для сравнения привлечен материал экспедиции 1938 года в Пудожский район и собственные экспедиционные записи автора.
Р.Б.КАЛАШНИКОВА
Сноски - в конце статьи (на последней странице)
Более полутора столетий отделяет нас от времени первых научных публикаций песен, исполнявшихся во время молодёжных беседных увеселений в Олонецкой губернии (в частности — в Заонежье) [1]. В этот период был собран достаточный эмпирический материал, описательноэтнографический и текстовой, который до сих пор в большинстве своём не учтён исследователями песенной традиции. В собирании заонежского материала участвовали снискавшие мировую известность фольклористы второй половины XIX века – П. Н. Рыбников и Е. В. Барсов, а также олонецкие краеведы, внёсшие большой вклад в историю русской культуры, – К. М. Петров, Г. И. Куликовский, П. И. Певин, Н. С. Шайжин, В. Д. Лысанов и другие [2].
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «КИЖИ»
Ж.В.Гвоздева (Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», Петрозаводск)
В 1989 году в музее-заповеднике «Кижи» была создана фольклорная группа, участниками которой стали штатные сотрудники музея (искусствоведы, реставраторы, хранители коллекций и т.д.) и их дети. Инициатором создания, активным участником и научным руководителем группы была Р.Б.Калашникова.